Лев ТИХОМИРОВ: Почему я перестал быть революционером
Предисловие Георгия Батухтина: Пост из серии «Голос из прошлого»
Лев Александрович Тихомиров (19 (31) января 1852, Геленджик — 16 октября 1923, Сергиев Посад) — участник заговора против Александра II, террорист, известный в подполье под кличкой Тигрыч. Приятель Желябова, Лаврова и Плеханова, без пяти минут жених Софьи Перовской, беглец, эмигрировавший из России, спасаясь от полиции. Он неожиданно раскаялся, был прощён Александром III и, вернувшись на Родину, превратился в крупнейшего теоретика монархизма, редактора самой монархической газеты России – «Московских ведомостей», советника Столыпина.
Всю свою жизнь после 1888 г. он посвятил борьбе с теми идеями, которым он отдал первые 17 лет своей «общественной» деятельности. Опубликование Тихомировым в 1888 г. брошюры «Почему я перестал быть революционером» произвело сенсацию.
Между тем в статье, вызвавшей далеко не однозначную реакцию в самых широких кругах интеллигенции, Тихомиров вполне здраво объясняет причины своего перерождения. Он «перестал быть революционером», потому что революция — что разрушение, потому что она направлена не на благо России, потому что она предполагает терроризм, потому что революционное миросозерцание чуждо реальности.
Надо сказать, что Тихомиров не единственный пример превращения из «левака» в достойного члена общества. Достоевский, Петр Струве и ряд других умных и заслуженных наших соотечественников, переболев «детской болезнью левизны», успешно выздоравливали. Чего я искренне желаю всем нынешним русским «левакам» (кроме тех, у кого эта болезнь зашла слишком далеко, до полной деградации личности).
Ниже предлагаются отрывки из книги Тихомирова. Полный текст можно скачать здесь
[georgy-batljuser]

Я полагаю что вовсе не широта или узость требований приводят к бессилию русское либеральное движете. Настоящая причина бессилия наших политических программ состоит в том что они слишком теоретичны, слишком мало национальны, слишком мало сообразованы с условиями нашей страны. Не окрепшая культура нашего отечества еще не имела времени накопить достаточное количество политических и социальных наблюдений, почерпнутых из, жизни самой страны.
Человек нашей интеллигенции формирует свой ум преимущественно по иностранным книгам. Он таким образом создает себе мировоззрение чисто дедуктивное, построение чисто логическое, где все очень стройно, кроме основания — совершенно слабого. Благодаря миросозерцанию такого происхождения у нас люди становятся способны упорно требовать осуществления неосуществимого или даже не имеющего серьезного значения, а в то же время оставлять в пренебрежении условия капитальной важности.
Итак, не сужение точек зрения нужно нам, а приобретение большей зрелости. Нужно отделаться от того детского примитивного воображения, которое наслаждается фейерверками трескучих фраз. Нужно приобрести воображение зрелого, развитого человека, которое любит прочное сооружение из незыблемых фактов действительности. Другими словами это значить, что нужно возможно скорее и шире развить цивилизацию и науку. Особливо же изучение своей страны и народа. Нужно стать способными самостоятельно пролагать свою дорогу и тогда — никакая широта желаний не повредит.
***
Меня упрекают: почему я не молчал? Мне говорят: вы должны молчать… Я знаю, это обычное явление: многие, достигшие некоторого опыта и возраста, перестают верить в свои прежние основы и мечты, — но молчат! Они не делятся опытом с молодежью, замечая: зачем разочаровывать? Сам ничего не делаешь,—не мешай другим! Есть и такие, у которых причина верности старому заключается во внутреннем крике сожаления о погибшей жизни: «Как, неужели эти 5 или 10 лет были ошибкой, за что же уложил я столько сил, за что отказался от того-то и той-то… не может быть!» Глубоко трагично это положение, оно не может не возбуждать жалости. Но сознавая причины малодушия и даже лично прощая его, нельзя забывать и того, что оно несет тяжелую ответственность за гибель молодых сил, за бесплодность наших „движений». Я считаю обязанностью поступить иначе. Когда я верил что да, я говорил — да, когда думаю, что нет, я и говорю — нет. Я писал программы в двадцать лет, теперь, когда мне почти сорок — я был бы весьма плохого о себе мнения, если бы побоялся своих двадцатилетних сочинений или не умел сказать ничего умнее их. Послушает ли кто-нибудь меня – это вопрос иной, но обязанность моя совершенно ясна
***
Когда-то я приветствовал появление партии «Народной воли», я ей отдал все силы. Я тогда еще был революционером, но уже понимал необходимость созидания, без которого не бывает здоровых движений. В новом движении мне чудилось ничто созидательное, элементы которого я старался к нему прививать, по мере своего понимания. Так, верой и правдой, по совести и убеждению, прослужил я — почти до конца 1880 года. Тут я — и не я один — стал чувствовать что в этом движении нет творящей силы. 1881 год я пережил весь уже с чисто формальной „верностью знамени». Я в это время чувствовал себя в недоумении. Россия здорова – таково было мое впечатлите; страна полна жизненной силы — но почему же чахнет революционное движение — это — как мне говорили мои теории — высшее проявление роста страны?
Мне это казалось невероятным противоречием, которое я не мог разрешить и которое меня приводило к какому-то холодному отчаянию. Так уехал я заграницу, с единственным желанием написать свои воспоминания о пережитом.
Вот, если позволят читатели, несколько выдержек из моего дневника за 1886 год. В марте 1886 года я отмечаю что по таким-то обстоятельствам (имевшим место, прошу заметить, в январе 1885 года), «я окончательно убедился что революционная Россия, в смысле серьезной, созидательной силы — не существует… Революционеры есть, они шевелятся и будут шевелиться, но это не буря, а рябь на поверхности моря… Они способны только рабски повторять примеры… Они не перенимают даже и у стариков ничего кроме внешности, техники». Далее: «В моих глазах уже более года несомненно, что отныне нужно всего ждать лишь от России, от русского народа, почти ничего не ожидая от революционеров». Я делал отсюда вывод, что «жизнь свою должен устроить так, чтобы иметь возможность служить России независимо ни от каких партий».
***
Есть много моих сверстников, которые также получили немало уроков от жизни и тем не менее продолжают пассивно «держать знамя»… Я поступил иначе. Почему? Причин, конечно, много. Я, например, чрезвычайно обязан наблюдению французской жизни, которая показала мне и действительно драгоценные стороны культуры, и ничтожную цену революционных идеалов. Но самое главное вот что: в мечтах о революции есть две стороны. Одного прельщает больше сторона разрушительная, другого – построение нового. Эта вторая задача издавна преобладала во мне над первой. <…> Вполне сложившиеся идеи общественного порядка и твердой государственной власти издавна отличали меня в революционной среде; никогда я не забывал русских национальных интересов и всегда бы сложил голову за целостность России…
Вообще я разделил бы революционный период моей жизни на три этапа:
1) Мечты о поднятии народных масс (эпоха Земли и Воли), причем я, однако, никогда не допускал мысли о самозванщине и тому подобном лганье, а думал, так сказать, о «честном бунте». .
2) Мечты о государственном перевороте посредством заговора, причем я, так сказать, терпел террор, стараясь, однако, обуздывать его и подчинить созидательным идеям (эпоха Народной Воли).
3) Мечтания о государственном перевороте путем заговора с резким отрицанием
террора и с требованием усиления культурной работы (эпоха кончины Народной Воли).
После этого я отбросил и самую революцию вообще. Третий этап — для меня теперь такое же прошлое, как первые два.
***
Чем меньше страна хочет революции, тем натуральнее должны прийти к террору те, кто хочет во что бы то ни стало оставаться на революционной почве, при своем культе революционного разрушения. Защитники политических убийств очень редко, полагаю, сознают, что настоящую силу терроризма в России составляет безнадежность революции; но в действительности они только поэтому и стремятся так упорно к террору, хотя бы вопреки даже усилиям наиболее способных людей своего же лагеря.
Терроризм исчезнет у нас тогда, когда исчезнет мысль действовать революционным путем. К несчастию, мысль о революционном пути воспитывается всеми слабыми сторонами русской образованности. Требование усиленной культурной работы, падавшее прямо на этот слабый пункт, независимо от моей воли, являлось в сущности антиреволюционным. Самый же факт его постановки является указанием на то, что в моем уме революция была уже бессознательно погребена.
<…> Революционный период моей мысли кончился и отошел в вечность. Я не отказался от своих идеалов общественной справедливости. Они стали только стройней, ясней. Но я увидел также, что насильственные перевороты, бунты, разрушение,—все это болезненное создание кризиса, переживаемого Европой — не только не неизбежно в России… Это — не наша болезнь. У нас это нечто книжное, привитое, порожденное отсутствием русской национальной интеллигенции. Но не придавать ему значения тоже не следует. Конечно, наше революционное движение… все-таки очень вредно, замедляя и отчасти искажая развитее (России).
Я не могу входить подробно в критический разбор множества переплетающихся, часто противоположных точек зрения, составляющих в сложности теоретический багаж революционного движения. Мне нужно собственно определить лишь свое отношение к нему. А потому я посвящаю нижеследующее изложение только трем вопросам, практически наиболее важным: 1) терроризму, 2) студенческим волнениям, 3) оценкам формы государственного правления.
***
Идея террора сама по себе до такой степени слаба, что о ней не испытываешь даже желания говорить… Терроризм, как система политической борьбы или бессилен, или излишен. Он бессилен, если у революционеров нет средств низвергнуть правительство, он излишен, если эти средства есть. А между тем, он вреден в нравственном и умственном смысле… Слабые аргументы [противников Тихомирова] «старых язычников», как они себя называют, могут оказать влияние на молодежь, так как льстят ее привычной точке зрения. Поэтому и я выскажу полнее свою мысль.
«Старые язычники» вспоминают в пользу террора истрепанный аргумент, будто бы это «дезорганизует правительство». Я доказывал, что он дезорганизует, прежде всего, самих революционеров. Что касается правительства, я бы желал видеть точнее формулировку, в чем именно выражается его «дезорганизация»?
<…> Вообще вывод моего наблюдения таков, что политические убийства приводили правительство в некоторое расстройство лишь до тех пор, пока оно думало, будто перед ним какая-то грозная сила, раз убедившись, что это ничтожная горсть, которая потому и занимается политическими убийствами, что не имеет силы на что-нибудь серьезно опасное — правительство, по моему, не обнаруживало более никаких признаков расстройства. Оно усвоило твердую систему и пошло своим путем совершенно без колебаний. Без сомнения, личная жизнь правительственных лиц, способных навлечь ненависть террористов, чрезвычайно испорчена постоянным ожиданием покушений. Но как бы ни была неприятна такая жизнь — уступать из-за этого, конечно, никто не станет…
С этой стороны, то есть в смысле политических изменений, значение террора равно приблизительно нулю. Но зато он отражается самым вредным образом внизу, на самих революционерах, и повсюду, куда доносится его влияние. Он воспитывает полное презрение к обществу, к народу, к стране. Воспитывает дух своеволия, несовместимый ни с каким общественным строем. В чисто нравственном смысле, какая власть может быть безмернее власти одного человека над жизнью другого? Это власть, в которой многие (и не худшие, конечно) отказывают даже самому обществу. И вот эту-то власть присваивает сама себе горсть людей, и убивает она даже не за какие-нибудь зверства, не за что-нибудь такое, что выводило бы ее жертвы за пределы человеческого рода, — она убивает, так сказать, за политическое преступление. И в чем же состоит это политическое преступление? В том, что признанное народом, законное правительство не желает исполнять самозваных требований горсти людей, которая до такой степени глубоко сознает себя ничтожным меньшинством, что даже не пытается начать открытую борьбу с правительством.
Конечно, со стороны этих людей можно услышать множество фраз о «возвращении власти» — «народу». Но это не более, как пустые слова. Ведь народ об этом нисколько не просит, а напротив, обнаруживает постоянно готовность проломить за это голову „освободителям». Только отчаянный романтизм революционеров позволяет им жить такими фикциями и третировать русскую власть как позволительно третировать власть какого-нибудь узурпатора. Русский Царь не похищает власти; он получил ее от торжественно избранных предков, и до сих пор народ, всею своею массой, при всяком случай показывает готовность поддержать всеми силами дело своих прадедов.
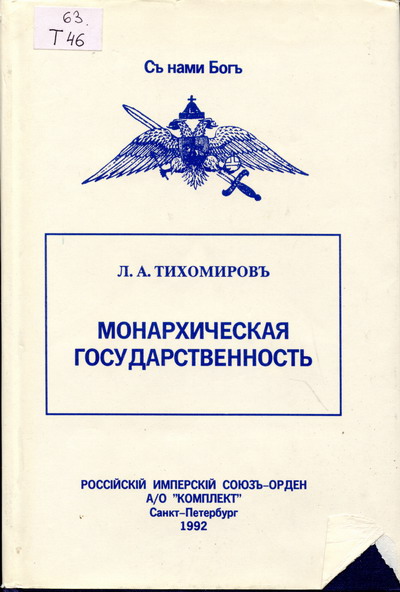
…Мне могут возразить, что вопрос о праве не всегда уместен, что иногда самозваные бунтовщики нравственно более представляют народ, нежели его законные представители. Случается. Но чтобы воображать это о себе — нужны факты, а факты истории нашего злополучного движения таковы, что теперь иллюзию «нравственного представительства» я уже не могу объяснить даже живостью воображения, а разве его косностью и невосприимчивостью ни к каким впечатлениям. Неужели все сословия страны еще недостаточно кричат, что революционеры для них „отщепенцы «?
Анархисты любят ссылаться еще на теорию естественных, прирожденных прав человека. Нельзя, однако, не заметить, что вопрос об естественных правах человека по малой мере спорен, теоретически он уяснится только тогда, когда вполне установлена будет природа общества. Практически он становится ясен только тогда, когда „естественные права» признаются законодательством (как, например, Американское или Французское объявление прав человека и гражданина).
У нас не было ничего подобного, и сами революционеры в своей программе исходят вовсе не из «естественных прав», и из «народной воли». Но «народная воля» за правительство и требует подчинения ему. А затем, если бы «естественные права» и легли в основу программы какой-либо партии — они не дадут ей никакого разрешения на политические убийства, что составляет, несомненно, посягательство на свободу личности и права общества.
В общей сложности, терроризму практика политических убийств, есть система борьбы, которая сама не выяснила себе ни своего права на существование, ни даже своей идеи. В действительности такою идеей может быть только анархическое всевластие личности и презрение ко власти общества. Но воспитывая целые поколения в таких идеях, терроризме не имеет даже логичности анархизма, умудряется гласно отрекаться от анархии, требует централизации, дисциплины… Не есть ли в целом это настоящая школа хаотизированной мысли, школа, приучающая людей к деятельности, не осмысленной никаким общим миросозерцанием.
<…> Наша общественная мысль переполнена всевозможными предвзятостями, гипотезами, теориями, одна другой всеобъемлющее и воздушнее. Воспитание ума совершается до того на общих местах, общих соображениях, что я боюсь, не понижает ли оно скорее способности к правильному мышлению. «Русская смекалка» проявляется у интеллигенции гораздо слабее, нежели у крестьян; о практичности, же нечего и говорить…
И в связи с такой выработкой ума как часто нравственная жизнь образованного человека представляет только две крайности. Сначала безумный жар фанатика, не допускающего скептицизма, видящего в обсуждении только подлость или трусость. Но увы — жизнь идет своим чередом, не по теории: она безжалостно бьет мечтателя, а он, не имея в уме другого содержания, кроме теоретических построений, начинает сердиться на жизнь: ему кажется что она бессовестно обманывает его. Наступает второй период — озлобленное разочарование, а иногда и мщение жизни, не умевшей оценить столь великого человека. Так появляются и самые отчаянные революционеры, так появляются и самые бессердечные карьеристы.
***
Второе проявление нашей революции составляют «волнения» молодежи, уничтожающие огромный процент ее лучших сил. Я знал в России, среди тех, кто сам гибнет, немало революционеров, щадивших молодежь. [Эмиграция] думает иначе. «Сколько молодых, формирующихся сил, — говорят они, — обрекаются на внутреннее разложение в смутную эпоху, когда всякая эволюция человека служит для нерешительных и колеблющихся поощрением и призывом быть переметной сумой».
Я нарочно цитирую эти строки. Это яркое знамение упадка, указывающее что пора гг. «передовым» одуматься, пора снова приняться за выработку своей личности, своего ума и совести. Пусть читатели вдумаются только в узкий, кагальный дух, пропитывающий обращенные ко мне упреки. Всякая «эволюция» страшит авторов «протеста»; нравственная жизнь состоит для них в том, чтобы быть «как наши», критика, самостоятельный выбор — составляют «внутреннее разложение», «колеблющихся и нерешительных» они желали бы захватить к себе, не заботясь об отсутствии убеждений, а довольствуясь пассивным послушанием и подражанием. Хороши, нечего сказать, нравственные идеалы!
<…> Если проявление умственной работы невыгодно для какой-нибудь программы, если для служения какой-нибудь партии нужны умы гипнотизированные – это доказывает лишь ложность программы… Мой совет молодежи: думайте, наблюдайте, учитесь, не верьте на слово, не поддавайтесь громким фразам, не позволяйте себя застращать. Примерьте двадцать раз прежде, чем отрежете.
…Учащаяся молодежь — это слой, из которого вырастает впоследствии государственная и умственная жизнь страны, слой драгоценный, который подготовляет Родине неоценимые блага, если готовится осмысленно к своей будущей миссии, но который также может принести много зла уже одним тем, что не умеет выполнить, как следует, добра. Это налагает на учащуюся молодежь серьезные обязанности — добросовестно подготовиться к будущей роли. Недостаточно иметь добрые намерения, недостаточно иметь горячее чувство: нужны знания, нужно уменье, и особенно выработка умственной самостоятельности. Русская учащаяся молодежь должна помнить, что все будущие «учителя», все способные руководить политикой или давать направление народной мысли — все они могут выйти только из ее среды. Какое банкротство готовит своей стране поколение, которое не выработает к своему времени достаточного количества людей мужественных, крепких духом, способных всегда отыскать свой собственный путь, не поддаваясь первому впечатлению или влиянию политической моды, а тем более пустым фразам, посредством которых шарлатаны повсюду эксплуатируют доверчивые сердца.
Россия – страна с великим прошлым и дает надежды на еще более великое будущее. Но она имеет свои недостатки, из которых один, очень важный, особенно близко касается учащейся молодежи: это крайняя незначительность серьезно образованного, мыслящего слоя, способного к серьезной умственной работе. Опасность такого недостатка очевидна, так как этот слой дает тон работе каждой страны, касается ли дело политики, промышленности, воспитания и т.д.
<…> Студенческое вмешательство в политику дает наиболее вредные последствия в форме разных демонстраций, когда чуть не в 24 часа из-за грошового протеста против какого-нибудь пустячного «притеснения», погибает для будущего несколько сотен молодых, незаменимых сил. «Лучше что-нибудь, чем ничего, — повторяют подстрекатели. – Лишь бы не спячка». И такое рассуждение, к сожалению, действует и продолжает в зародыше истреблять русскую цивилизацию.
Я спрашиваю, однако, есть ли это спячка, когда студенты готовятся к служению России… когда молодежь честно старается понять историю своей страны, ее учреждения, общие законы социальных явлений, выбирает себе наилучшие, наиболее подходящие для каждого пути будущей деятельности и приготовляется к ним?
С другой стороны – велика ли нравственная сила… в рефлективных вспышках, когда сотни и тысячи молодых людей, хотя бы и вызываемые на то чем-нибудь неприятным и ненормальным, отнимают у России все, чем они, студенты, могут иметь для нее действительную ценность…
<…> Человек, отказывающийся от бунтовской деятельности, сплошь и рядом у нас действительно портится, становится своекорыстным карьеристом и загребалой-кулаком. Но это есть последствие тех, воистину преступных идей, будто бы только бунтуя, уничтожая направо и налево, человек остается честным. Эта точка зрения так укоренена в наших понятиях, что человек редко покидает бунтовство по убеждению, а большей частью – против убеждения, под давлением инстинктов созревшего организма. Усмиряясь, он сам смотрит на это, как на уступку, на падение… махает на все рукой и опускается все ниже.
***
Мы подходим к вопросу о Самодержавии. О котором, без того, стоит объясниться. В настоящее время (1888 год) отношение к образу правления составляет чуть ли не самую характеризующую черту революционеров. Раз человек против «абсолютизма», он «свой», и даже социалисты не особо присматриваются к остальным его взглядам. Что касается культурной деятельности - о ней хоть не упоминай: «Какая может быть культурная деятельность при неограниченной власти!?»
Нет в России большего доказательства нашей некультурности, как это непонимание и эта неспособность сколько-нибудь самостоятельно оценить достоинства политических форм. Во-первых, каково бы ни было правительство — оно может отнять у народа все, что угодно представить, но не возможность культурной работы (предполагая, что народ к ней способен). Во-вторых, можно ли до такой степени забывать собственную историю чтобы восклицать: «Какая культурная работа при абсолютизме!» Да разве Петр не царь? А есть ли во всемирной истории эпоха более быстрой и широкой культурной работы? Разве не царица. Екатерина II? Разве не при Николае I развились все общественные идеи, какими до сих пор живет русское общество? Наконец, много ли республик, которые в течение 25 лет сделали бы столько преобразований, как сделал Император Александр II?
… Я смотрю на вопрос о самодержавной власти так. Прежде всего – это такой результат русской истории, который не нуждается ни в чьем признании, и никем не может быть уничтожен, пока существуют в стране десятки миллионов людей, которые в политике не знают и не хотят знать ничего другого. Непозволительно было бы не уважать историческую волю народа… Поэтому всякий русский должен признать установленную в России власть и, думая об улучшениях, думать о том, как их сделать при самодержавии.
… Есть на свете две концепции общества и два, связанных с ними, идеала. Все люди согласны в том, что должны быть обеспечены материально, иметь средства для духовного и физического развития, должны быть обеспечены в своих правах, в своей, как принято говорить, свободе. Тут спорить не о чем. Но между воззрениями на тип общества существуешь целая пропасть.
Социальный организм или социальный аморфизм? Вот эти две точки зрения. Для одних — всякая работа, всякая функция общества отправляется и должна отправляться правильно организованным способом, то есть посредством специально к тому приспособленных учреждений, вооруженных, конечно, необходимою для действия компетенцией и властью. Таким путем совершается человеческий прогресс и развивается общество, строение которого постоянно все усложняется.
Другим кажется, будто общество идет к какому-то упрощению, к равномерному разлитию всех специальностей и всех форм власти в массе граждан. Функции учреждений переносятся на личности, и каждая личность заключаешь в себе некоторую долю всех социальных компетенций.
Я человек первой концепции, и для меня общество, как некоторый процесс органический, созидающий нечто целое, все усложняющееся в своей организованности, — это не есть идеал, это есть просто факт… Всякое изменение в организации центральной власти может быть желательно лишь тогда, когда одно, худшее, заменяется и действительно заменяется, а не на словах только, — чем-нибудь лучшим.
Чем же критики политических основ русского строя заменят их? …
Я скажу, однако, больше. Если бы какие-либо изменения в нашей системе государственного управления и оказывались возможны, о них следует думать с величайшею осторожностью. Всякая страна нуждается прежде всего в правительстве прочном, то есть не боящемся за свое существование, и сильном, то есть способном осуществлять свои предначертания. Тем более, нуждается в нем Россия с ее далеко не законченными национальными задачами и с множеством внутренних неудовлетворенных запросов. Сильная монархическая власть нам необходима и думая о каких-либо усовершенствованиях, нужно прежде всего быть уверенным что не повредишь ее существенным достоинствам. У нас многие мечтают о парламентаризме, но в нем есть только одна ценная черта — постоянное обнаружение народных желаний и мнений, а засим парламентаризм, как система государственного управления, в высшей степени неудовлетворителен.
Третье замечание, которое я должен сделать – это, что всякое правительство, если только оно не поставлено в невозможность действовать, действует приблизительно в том направлении, которое определяется материальными условиями страны, и обращающимися в ней идеями. Вот где нужно искать действительный источник многих неустройств в России.
При всякой форме правления, откуда можно брать людей и мероприятия, если не из среды образованного класса? Самый способный и благонамеренный правитель может лишь удачно или неудачно выбирать людей, но не может самолично решать все вопросы администрации, социологии, политической экономии. Если слой народа, сосредоточивающий в себе знания страны, имеет идеи легкомысленные или хаотические, или полные ни к чему не прилагаемого теоретизма — кто виноват?
У нас же политическая роль образованного класса в течение всего XIX века, а особенно в наше время, далеко не всегда заслуживает аттестата зрелости и нередко могла только отнимать у правительства возможность пользоваться образованными силами страны. Не говорю об исключениях. Общее же правило состоит в том, что молодежь и вообще наиболее передовой слой, в теории — витает в областях совершенно заоблачных, на практике же — кидается в предприятия, способные привести в отчаяние государственного человека: то, смотришь, русские участвуют в польском мятеже, то идут в народ с мечтами о федерации независимых общин и планами повсеместных восстаний, то создают идею и практику террористической борьбы.
Старшие же поколения, или более умеренные… не могут создать ничего, способного сколько-нибудь дисциплинировать умы молодежи и подчинить ее влиянию каких-нибудь серьезных, научно выработанных доктрин… Этот более умеренный слой…не имея силы ни взять, ни удержать конституцию, он, однако, постоянно надоедает правительству стонами о конституции…
***
Для того, чтобы окончательно определить мое отрицание революционных идей, я хочу обрисовать в двух-трех словах то направление, торжество которого я бы хотел видеть в России.
Революционное движение есть не причина, а только признак зла, от которого сильнее всего страдает современная Россия. Зло это, как я уже сказал, — недостаток серьезно выработанных умов в образованном классе, вследствие чего вся умственная работа этого класса отличается очень невысоким качеством. Клеймо недостатков, которые создаются полуобразованием, лежит нередко на работ даже самых выдающихся талантов наших. Зло полуобразования заключается не в малом количестве сведений — у крестьянина их еще меньше — а в манере их усваивать слегка и с чужих слов в привычке удовлетворяться полузнанием, и т. д., вообще в плохой дисциплине ума. Вот зло, губящее лучшие свойства русской натуры, помогавшие когда-то нашим предкам создать великую страну, которую мы по мере сил расшатываем теперь.
Борьба с этим злом – и есть, по моему мнению, главнейшая задача настоящего времени. Судьба России существенно зависит от того, сумеет ли она, наконец, выработать ядро зрелых умов, достаточно сильное для того, чтобы задать тон остальной массе образованного класса, и наметить собственной работой, собственной мыслью и исследованием главнейшие пункты устроения России.
Примечание: Как показал дальнейший ход событий – решить эту задачу не удалось. Российская интеллигенция в своей радостной фронде и мечтаниях о конституции, успешно вляпалась в 1917 год, похоронивший сперва Империю, а потом и саму интеллигенцию. И «главным мыслителем» новой, советской России стал недоучка-юрист Бланк (Ульянов). Печально…
К счастью, пока не смертельно. По иронии судьбы, сегодня, спустя сто с лишним лет после выхода книги Тихомирова, перед русским народом встает снова все та же главная задача: сформировать здравое ядро, которое сможет задать нужный тон всему обществу.
Источник http://ronsslav.com/lev-tihomirov-pochemu-ya-perestal-byt-revolyutsionerom/














